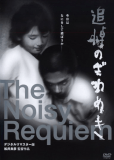Шумный реквиемДрама (Япония, 1988) Режиссер: Мацуи Ёсихико
|
 ArturSumarokov
ArturSumarokov
14 октября 2015 г., 16:01
Вечная полночь наступила в Камагасаки. Но момент волглого и мятежного пробуждения его обитателей все никак не наступал; кошмарное сновиденческое предстояние владело мерзкими душами жителей этой индустриальной свалки, утонувшей в горячем пару ядовитых выхлопов. Чёрные металлические вены многочисленных труб сочились зелёной водой, напитанной канализационным смрадом, а сочащийся грудным молоком лунный свет флуоресцентными гибкими пальцами проникал в дома, с неподдельным бесстыдным вуайеризмом подсматривая за тягучим жизненным абсурдом там. Вот танцуют, хаотически разбрасывая движения рук и ног, карлики — им весело и грустно; их печаль печатью своей ничтожности навеки осталась на их лицах. А вот мужчина средних лет достаёт из-за пазухи, из-за занавеси своего холщового серого плаща молоток и начинает усердно, высунув свой красный, словно сочащееся патокой похоти женское влагалище, язык от сладострастного наслаждения, колотить им по лицу молодой девушки, находящейся у него между ног. Ещё миг бесстрастного всматривания… Сперма и кровь хлещут на серую стену этой затхлой квартиры. Буквально в паре сот метров, в верхней комнате по соседству, маленькая девочка дрожит, когда руки её покровителя, такие влажные и дерзкие, проникают ей между ног, но она не в силах сопротивляться. Город без времён года погружен в своё безумие уже очень давно, и ни для кого из его жителей не уготовано вечное возвращение. Только эта полночь длиною в век.
Третий полнометражный фильм японского авангардного режиссёра Ёсихико Мацуи, «Шумный реквием» 1988 года, едва ли возможно втиснуть в какие-либо существующие жанровые рамки, поскольку режиссёр, являющийся в свою очередь способным учеником небезызвестного Сюдзи Тераямы, предпочёл совершенно отказаться от любых привычных форм киноизьяснения в угоду тотальному пуризму собственного киноязыка при преднамеренном отказе от любой упрощающей и укрощающей суть дидактики, нарочитой лощенной парадигмизации собственно фильмического пространства, вобравшего в свою неряшливо-монохромную палитру краски как экстремиста и экстремала Тераямы периода «Томатного кетчупа императора» и «Бросай читать, собираемся на улицах!» и академиста Куросавы, чей кризисный фильм «Под стук трамвайных колёс» 1970 года своей сюжетной основой выразительно рифмуется с некрореалистическими картинами ада «Шумного реквиема». Но, пожалуй, есть и тектонические смыслообразующие различия; Ёсихико Мацуи отвергает, отторгает, отрыгает, упиваясь концентрированным физиологизмом, патерналистский гуманизм Куросавы, лишая своих маргинальных персонажей, эдаких скукоженных в своей анемичности экстраполяций болезненных типажей диалектики Онироку Дана, Жоржа Батая и Жана Жене, даже намека на надежду, спасение, на любовь, не искаженную уродливыми шрамами педофилии, некрофилии и садизма. Живописание их мучительного бытия превращается в мертвеписание, Мацуи исполняет в своём фильме главенствующую, по праву демиурга этого камерного ада, роль мортиролога, это обобществляющее mortis, но не mortus (христианскими мучениками героев ленты не назовешь даже скрепя сердце) и logos, в котором постановщик аппелирует к экстремальной образности, не гнушаясь ни склизкой мерзости, ни анархистской дерзости. Здесь царствует герценское понимание этого термина; режиссёр создаёт реестр душевной каторги, список смертников, которым не дано получить даже последний поцелуй у эшафота.
Поначалу эпизодическая структура фильма, самоочевидно опирающаяся не то сызнова на Куросаву, не то на Олтмана, лишенная к тому же линейности нарратива, не позволяет конкретно сфокусироваться на каком-то отдельном персонаже из целой их галереи, возвращающей зрителей в том числе к эстетике пинку; все эти юродствующие в своём уродстве и уродливые в своём неизлечимом фетишизме герои практически без слов рассказывают свои истории, которые внятной концовки не имеют. До определенного момента; при этом дымчатый эффект авторского остранения постепенно подменяется тотальным абстрактным отстранением — режиссёр выполняет роль наблюдателя, а не судьи или палача. Существование большинства персонажей в кадре обусловлено текущим моментом их небытия. Как только сюжет взрывается актами их нечаянного взаимодействия, мертвецкий мир картины заливается кровью, слезами, спермой; запускается окончательный механизм их саморазрушения, разложения, уничтожения. Регулярно попадающий в кадр Будда уже не в силах уберечь их от ниспадания все ниже и ниже, туда откуда возврата уже не будет. Пресловутый юфитско-буттгерайтовский некрореализм, взрощенный на почве многогранной японской ментальности, лишь становится удобной площадкой для гораздо более масштабного авторского высказывания не о невыносимой лёгкости бытия, но о невозможности это бытие, трансформирующееся в «Шумном реквиеме» в кривозеркальное «быт и я», это мучительное внутреннее состояние своей ненужности, постичь и прозреть в итоге. «Шумный реквием» семантически оказывается намного ближе нам, тихая истерика затерянных во вневременьи героев Ёсихико Мацуи много позже обернулась всеобщим «Астеническим синдромом», яростью и руганью из-за тотальной социальной некоммуникабельности и абсурдности мира вокруг персонажей Киры Муратовой из ее программного фильма 1989 года, а нервическая модернистская изломанность киноязыка Алексея Германа-мл., времён «Ивана Лапшина» и более позднего «Хрусталева» нашла своё отражение в фильме Мацуи, снятом в эсхатологически-коматозной манере беспробудного сна, разодранным до кости, до плоти нервом экзистенциальной петли Мёбиуса, что всё больше обвивается на шее героев «Шумного реквиема». Нет, Ёсихико Мацуи не ищет здесь своих Лапшинов и Хрусталевых, стремящихся, впрочем, с тщетой, вырваться из порочного круга этого бессмысленного существования; их нет. Режиссёр пишет реквием для своих героев, и медленно хороня их в яме из деструктивных перверсий и идеологических диверсий, в финале фильма отчётливо проступает своеобразная инверсионная инерциальность, интенционально сводящая весь вязкий в своей половозренческой девиантности сюжет фильма к сомнительным кунштюкам о смерти как единственном спасении и оправдании всех деяний. Смерти, что автором лишилась своей красоты, растворив её в индустриальной кислоте полуночного Камагасаки — города без времён года и без людей с признаками человечности, населённого лишь призраками и демонами, чей ад внутренний выплеснулся лавой хаоса на узкие улочки, на тротуары.